Мое глухое михайловское наводит на меня тоску и бешенство
"А в ненастные дни собирались они. "
В глуши Михайловской ссылки, вдали от Петербурга, Пушкин особенно остро ощущал свое одиночество. Он только что закончил "Бориса Годунова", послал лицейским товарищам свое замечательное "19 октября" ("Роняет лес багряный свой убор. "), продолжал трудиться над "Евгением Онегиным". Но настроение у него было угнетенное: "С тех пор как я в Михайловском, я только два раза хохотал",- писал он Вяземскому.
Между тем шел уже седьмой год его ссылки.
Со смертью Александра I и воцарением Николая I у поэта рождаются надежды на освобождение. Он обращается к Жуковскому: "Кажется, можно сказать царю: Ваше величество, если Пушкин не замешан, то нельзя ли наконец позволить ему возвратиться?"
И затем к Плетневу: ". не может ли Жуковский узнать, могу ли я надеяться на высочайшее снисхождение, я шесть лет нахожусь в опале, а что ни говори - мне всего 26. Покойный император в 1824 году сослал меня в деревню за две строчки нерелигиозные - других художеств за собою не знаю. Ужели молодой наш царь не позволит удалиться куда-нибудь, где бы потеплее? - если уж никак нельзя мне показаться в Петербурге - а?"
Он пишет Вяземскому из Пскова: ". если царь даст мне слободу, то я месяца не останусь. мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство. В 4-й песне "Онегина" я изобразил свою жизнь. Незабавно умереть в Опочецком уезде. "
О чем же говорил Пушкин в этой четвертой песне своего романа?
Евгений "в первой юности своей был жертвой бурных заблуждений и необузданных страстей. ". Читателя волнует холодный, бездушный ответ Онегина на трогательное признание Татьяны. Волнует, что, сразу забыв о встрече с ней, Онегин, "точно равнодушный гость, на вист вечерний приезжает".
Пушкин спрашивает: "в глуши что делать в эту пору?" - когда уже трещат морозы. Пишет, что любит "дружеские враки и дружеский бокал вина", и заканчивает четвертую песню строками:
Тяжелый "опыт" шестилетнего изгнания не остудил сердца Пушкина, и поэт не запрещает себе от времени до времени "забываться" в кругу приятелей.
Среди таких приятелей Пушкина был И. Е. Великопольский, отставной офицер и поэт, живший то в Москве, то в своем тверском имении и от времени до времени наезжавший в Псков. Пушкин иногда приезжал из Михайловского в Псков и останавливался у своего знакомого Г. П. Назимова.
Здесь он встретился и сблизился с Великопольским.
Отношения между ними установились дружеские.
В начале марта 1826 года Великопольский прислал Пушкину томик стихотворений поэта-крестьянина Ф. Н. Слепушкина. В библиотеке Пушкина два томика его стихотворений. На одном - "Четыре времени года русского поселянина", изданном в Петербурге в 1830 году, дарственная надпись: "Его высокоблагородию милостивейшему государю Александру Сергеевичу Пушкину в знак истинного почитания и благодарности приносит сочинитель".
Другая книга стихотворений Слепушкина "Досуги сельского жителя", изданная в Петербурге в 1826 году, прислана Пушкину Великопольским.
Пушкин сразу же отозвался и поблагодарил Великопольского письмом: "Сердечно благодарю Вас за письмо, приятный знак Вашего ко мне благорасположения. Стихотворения Слепушкина получил и перечитываю все с большим и большим удивлением. Ваша прекрасная мысль об улучшении состояния поэта-крестьянина, надеюсь, не пропадет. Не знаю, соберусь ли я снова к Вам во Псков; Вы не совершенно отнимаете у меня надежду Вас увидеть в моей глуши. "
В один из приездов Пушкина в Псков вечером у Назимова, очевидно, сели за карты -
Пушкин, видимо, выиграл в этот вечер, и Великопольский остался ему должен. И 3 июня 1826 года решил напомнить Великопольскому о его старом карточном долге:
Сделайте одолжение, пятьсот рублей, которые Вы мне должны, возвратить не мне, но Гавриилу Петровичу Назимову, чем очень обяжете преданного Вам душевно
Великопольский написал Пушкину в ответ:
И закончил, вспоминая привычку Пушкина носить длинные ногти:
Великопольский, вероятно, не мог забыть, как шутливо-иронически отозвался Пушкин о его поэтическом творчестве,- "играешь ты на лире очень мило",- и в минуту раздражения направил по адресу Пушкина стихи:
Четвертая строка стихотворения была в первом варианте иная: "Шумит, бунтует целый век", но Великопольский заменил ее более резкою строкою: "Провел без совести свой век".
Прошло около двух лет. Великопольский, видимо, убедился, что он действительно "довольно плохо в штосс играет", и написал стихи "К Эрасту (Сатира на игроков)", в которых доказывал пагубность для молодых людей увлечения картами.
Зная Великопольского страстным и увлекающимся игроком, Пушкин напечатал в "Северной пчеле" без подписи "Послание к Великопольскому, сочинителю "Сатиры на игроков", которое закончил строками:
Задетый этим стихотворением, Великопольский послал в "Северную пчелу" свой "Ответ знакомому сочинителю послания ко мне", в котором были, между прочим, строки:
Редактор "Северной пчелы" Булгарин не решился напечатать эти стихи Великопольского без согласия Пушкина и познакомил с ними поэта. Пушкин написал в конце марта 1828 года Великопольскому:
"Любезный Иван Ермолаевич.
Булгарин показал мне очень милые ваши стансы ко мне в ответ на мою шутку. Он сказал мне, что цензура не пропускает их, как личность, без моего согласия. К сожалению, я не мог согласиться.
и ваше примечание,- конечно, личность и неприличность. И вся станса недостойна вашего пера. Прочие - очень милы. Мне кажется, что вы немножко мною недовольны. Правда ли? По крайней мере отзывается чем-то горьким ваше последнее стихотворение. Неужели вы захотите со мною поссориться не на шутку и заставите меня, вашего миролюбивого друга, включить неприязненные строфы в 8-ю главу "Онегина"?"
Пушкин вспомнил, как Великопольский заплатил ему однажды карточный долг 35-ю томами "Энциклопедии наук, искусств и ремесл" Дидро, д'Аламбера и других, издания 1751 - 1780 годов, и закончил свое письмо к Великопольскому строками:
"NB. Я не проигрывал 2-й главы, а ее экземплярами заплатил свой долг, так точно, как вы заплатили мне свой родительскими алмазами и 35-ю томами Энциклопедии. Что, если напечатать мне сие благонамеренное возражение? Но я надеюсь, что я не потерял вашего дружества и что мы при первом свидании мирно примемся за карты и за стихи.
Последним отголоском всей этой истории явилось написанное Пушкиным в 1829 году резкое стихотворение "На Великопольского":
Именем Горация назвал Пушкин Великопольского за его сатирические стихотворения, Беверлеем - по имени игрока, главного героя драмы французского писателя Со-рена "Беверлей", переведенной на русский язык и с большим успехом шедшей на русской сцене в пушкинскую пору.
Ни на письмо Пушкина, ни на это стихотворение Beликопольский ничего не ответил. Он очень уважал Пушкина и о своей размолвке с великим поэтом впоследствии не любил вспоминать.
Где вольность и закон? Над нами
Единый властвует топор.
Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
Избрали мы в цари. О ужас! о позор!
КАЦАПЫ
Кацап останется кАзлом,
Хоть ты пусти его в Европу,
Где надо действовать умом,
Он напрягает только жопу!
Противна Россия. Просто ее не люблю. В России скверно, скверно, скверно. В Петербурге, в Москве все что-то кричат, негодуют, ожидают чего-то, а в глуши тоже происходит патриархальное варварство, воровство и беззаконие. Приехав в Россию, я долго боролся с чувством отвращения к родине.
Рабочие не хотят работать хорошо и работать хорошими орудиями. Рабочий наш только одно знает — напиться, как свинья, пьяный и испортит все, что вы ему дадите. Лошадей опоит, сбрую хорошую оборвет, колесо шипованное сменит, пропьет, в молотилку шкворень пустит, чтобы ее сломать. Ему тошно видеть все, что не по его. От этого и спустился весь уровень хозяйства.
Русский человек не чувствует неразрывной связи между правами и обязанностями, у него затемнено и сознание прав, и сознание обязанностей, он утопает в безответственном коллективизме, в претензии за всех. Русскому человеку труднее всего почувствовать, что он сам — кузнец своей судьбы. Он не любит качеств, повышающих жизнь личности, и не любит силы. Всякая сила, повышающая жизнь, представляется русскому человеку нравственно подозрительной.
Это наше русское равнодушие — не чувствовать обязанностей, которые налагают на нас наши права, и потому отрицать эти обязанности.
Народ стоит на такой низкой степени и материального и нравственного развития, что, очевидно, он должен противодействовать всему, что ему чуждо. В Европе рациональное хозяйство идет потому, что народ образован; стало быть, у нас надо образовать народ, — вот и всё.
Сила правительства в России держится на невежестве народа, и оно знает это и потому всегда будет бороться против просвещения. Пора нам понять это.
Другие статьи в литературном дневнике:
- 30.03.2019. Бремя власти
- 28.03.2019. Когда и как Путин уйдет?
- 27.03.2019. Мне нравится
- 26.03.2019. Что военные РФ делают в Венесуэле?
- 25.03.2019. Что спасёт Путина?
- 22.03.2019. Восхищаюсь Клишасом
- 20.03.2019. Антология афоризмов о тоталитаризме
- 19.03.2019. Не власть, а одна большая семья
- 17.03.2019. Cистемы ценностей
- 15.03.2019. 10 причин не уважать эту власть
- 14.03.2019. Деформация реальности
- 13.03.2019. Владимир Буковский о России
- 11.03.2019. Плохие новости для Путина
- 09.03.2019. Виктор Астафьев о России
- 08.03.2019. От Великого до смешного
- 07.03.2019. Маршал Карл Густав Маннергейм
- 06.03.2019. Борис Акунин о России
- 05.03.2019. Интервью А. Пионтковского Русскому монитору
- 04.03.2019. Евгения Альбац о России
- 03.03.2019. Марк Алешковский о России
- 02.03.2019. Русские классики о России
- 01.03.2019. Антон Павлович Чехов о России и мире
Портал Проза.ру предоставляет авторам возможность свободной публикации своих литературных произведений в сети Интернет на основании пользовательского договора. Все авторские права на произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна только с согласия его автора, к которому вы можете обратиться на его авторской странице. Ответственность за тексты произведений авторы несут самостоятельно на основании правил публикации и российского законодательства. Вы также можете посмотреть более подробную информацию о портале и связаться с администрацией.
Ежедневная аудитория портала Проза.ру – порядка 100 тысяч посетителей, которые в общей сумме просматривают более полумиллиона страниц по данным счетчика посещаемости, который расположен справа от этого текста. В каждой графе указано по две цифры: количество просмотров и количество посетителей.
И здесь следует подчеркнуть одно очень существенное различие между двумя нашими гениями. Для Пушкина, болезненно переживавшего свою ссылку в деревенской глуши, значимыми приметами недоступной и желанной европейской цивилизации были вещи разнородные. Их он и перечисляет в письме к Вяземскому: "Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? Если царь даст мне слободу, то я месяца не останусь. Мы живем в печальном веке, но когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, англ журналы или парижские театры и - то мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство". Таким образом, паровозы, пароходы, хорошо изданные журналы и шикарные бордели - всё это для Пушкина равноправные приметы цивилизации, до которой России еще очень далеко. Впоследствии издатель "Современника" привлечет к сотрудничеству в своем журнале князя Петра Борисовича Козловского, дипломата и известного знатока римских классиков, и закажет ему статью "Краткое начертание теории паровых машин". Напомню, что в это время в Российской империи не было еще ни одной действующей железной дороги, а ветка от Петербурга до Царского Села только сооружалась. Пушкин считал эту статью столь важной, что даже в канун дуэли просил Вяземского напомнить Козловскому об этом!
А находившийся на пике европейской цивилизации Тютчев не мыслил свою жизнь без каждодневного чтения европейских газет и журналов, но не задумывался над тем, что нужно для того, чтобы всё это появилось в отсталой России. Возвращаясь на родину, он написал жене из Варшавы: "Я не без грусти расстался с этим гнилым Западом, таким чистым и полным удобств, чтобы вернуться в эту многообещающую в будущем грязь милой родины". Отсталость России никогда не воспринималась им сквозь призму неразвитости ее экономики, но всегда рассматривалась как неизбежное следствие, порожденное огромным пространством Империи. Он болезненно воспринимал эти бескрайние просторы и разъединенность близких людей в пространстве. Преодолевая дискомфорт и страх одиночества в дороге, он написал почти два десятка стихотворений.
Анна Андреевна Ахматова некогда сказала: "Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда…" В этой книге я очень мало буду говорить о стихах Тютчева и очень много - о том "соре", из которого они выросли.
Карамзин, ссылаясь на летописное свидетельство, в одном из примечаний к V тому "Истории государства Российского" поведал современникам о пращуре рода Тютчевых - московском боярине Захарии Тутчеве (или Тетюшкове), "хитром муже", который прославился тем, что блестяще выполнил важное дипломатическое поручение великого князя московского Дмитрия Ивановича, впоследствии прозванного Донским. В 1380 году в Москву "приехали Мамаевы послы с требованием, чтобы Димитрий платил Хану древнюю дань, без всякого уменьшения". Великому князю требовалось выиграть время: решающая схватка с Ордой была не за горами - и тогда к хану Мамаю послали хитроумного Захарию Тутчева. Великий князь дал своему послу "множество золота, серебра и двух переводчиков". Захария своевременно довел до сведения великого князя о военных приготовлениях хана, что позволило Дмитрию Ивановичу подготовиться к предстоящей битве на Куликовом поле. Хан Мамай встретил Захарию гневно, швырнул в него башмак с правой ноги и сказал своим воинам: "Возьмите дары Московские и купите себе плети: злато бо и сребро Князя Димитрия всё будет в руку моею; землю же его разделю служащим мне, а самого приставлю стадо пасти верблюжее". Московский боярин не растерялся и проявил не только выдержку, но и остроумие. "Захария отвечал смело, и воины хотели убить его: Мамай удержал их, и звал сего боярина к себе на службу. Хитрый Захария не отказался, но просил, чтобы ему дозволили прежде отправить Димитриево посольство". Мамай написал грамоту к Дмитрию Ивановичу. Мурзы ханские должны были вручить ее великому князю; "но Захария, встреченный близ Оки отрядом Российским, связал сих четырех Мурз, изорвал грамоту Ханскую, послал одного Татарина сказать о том их Государю, и благополучно возвратился в Москву". Больше мы ничего не знаем об этом человеке и очень мало знаем о нескольких поколениях его потомков.
Возникает естественный и вполне объяснимый соблазн усмотреть какие-то черты "хитрого мужа" и одного из первых российских дипломатов в личности Федора Ивановича. Но постараемся избежать этого соблазна и не станем предаваться досужим размышлениям о том, как причудливо тасовалась колода карт в роду Тютчевых, в результате чего мой герой унаследовал от своего далекого предка изобретательность и тонкость ума. Независимое поведение, смелость в речах и поступках, "страсти роковые" - всё это станет отличительной чертой тютчевского рода.
Родной дед поэта Николай Андреевич Тютчев был прямым потомком Захарии в XV колене и получил известность своим романом с печально знаменитой Дарьей Николаевной Салтыковой, вошедшей в историю под именем Салтычихи. Каждому школьнику известно, что Салтычиха прославилась бесчеловечным отношением к собственным крестьянам и насмерть замучила несколько десятков крепостных, но мало кто знает, что она рано (в 25 лет!) овдовела и в буквальном смысле слова изнывала без мужа в своем подмосковном селе Троицком, что в Теплом Стане. Это имение Дарья Николаевна унаследовала от думного дьяка Автонома Ивановича Иванова, своего деда по отцовской линии. Дьяк Автоном был взят из грязи, да посажен в князи: в конце XVII века он руководил Иноземским, Поместным, Рейтарским и Пушкарским приказами. Сохранились адресованные ему письма Петра Великого: одно - о работниках, определенных для переселения в Петербург; другое - о государственных доходах и о продажных товарах, причем в этом письме царь повелевал дьяку представить соответствующую ведомость. Думный дьяк отличался непревзойденной практической сметкой и прекрасным политическим чутьем, благодаря чему не только смог удержаться на высоких постах и, главное, ухитрился выжить среди беспрерывных казней конца века, но и нажил баснословное состояние в 19 тысяч крепостных крестьян, которое, по неизвестной нам причине, всё пошло прахом: внучке досталось всего лишь 600 душ.
Пушкин Александр Сергеевич
(Цитата из письма Вяземскому)
«Я, конечно, презираю Отечество мое с головы до ног. Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? Если царь даст мне свободу, то я месяца не останусь. Мы живем в печальном веке. мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство. В 4-й песне "Онегина" я изобразил свою жизнь; когда-нибудь прочтешь его и спросишь с милою улыбкой: где ж мой поэт? В нем дарование приметно - услышишь, милая, в ответ: он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится - ай да умница.
Вяземский Петр Андреевич (поэт)
(из письма Тургеневу, 18 апреля 1828 года)
. Бог голодных, Бог холодных,
Нищих вдоль и поперёк,
Бог имений недоходных
Вот он, вот он, русский бог.
Бог "грудей и жоп" отвислых
Бог лаптей и пухлых ног,
Горьких лиц и сливок кислых,
Вот он, вот он, русский бог .
. К глупым полн он благодати,
К умным беспощадно строг,
Бог всего, что есть некстати,
Вот он, вот он русский бог .
Глинка Михаил Иванович (композитор, автор оперы "Жизнь за царя")
27 апреля 1856 года Михаил Иванович уезжая из России в Германию, разделся на границе. догола, до самого гола, бросил на землю платье, чтоб и духу русского с собой случайно не прихватить, плюнул на русскую землю и крикнул: "Дай Бог мне никогда больше не видеть этой мерзкой страны и её людей" - и шагнул под шлагбаум. (Из воспоминаний сестры композитора Л.И. Шестаковой ("Русская старина". Ежемесячное историческое издание. 1870 г. Том II. Санкт-Петербург, 1870))
Толстой Алексей Константинович (писатель, драматург, поэт):
"Если бы перед моим рождением Господь сказал мне: "Граф! Выбирайте народ, среди которого вы хотите родиться!" - я бы ответил ему: "Ваше величество, везде, где Вам будет угодно, но только не в России!" У меня хватает смелости признаться в этом. Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению. И когда я думаю о красоте нашего языка. о красоте нашей истории до проклятых монголов и до проклятой Москвы, ещё более позорной, чем самые монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали с талантами, данными нам Богом. (цитата из письма Алексея Толстого Маркевичу 26 апреля 1869 г. (Толстой А.К. Собрание сочинений в 4-х тт. Т.4. - Москва. издательство "Правда", 1980 г. стр. 445))
Тютчев Федор Иванович (поэт):
"Русская История до Петра Великого - одна сплошная панихида, а после Петра Великого - одно уголовное дело! (цитата из "Тютчевианы" Г.И. Чулкова)
Аксаков Иван Сергеевич (поэт, публицист):
"Ах, как тяжело, как невыносимо тяжело порою жить в России, в этой вонючей среде грязи, пошлости, лжи, обманов, злоупотреблений, добрых малых мерзавцев, хлебосолов-взяточников, гостеприимных плутов - отцов и благодетелей взяточников. Вы не можете понять тех истинных мучений, которые приходиться испытывать от пребывания в этой среде, от столкновения со всем этим продуктом русской почвы. Там, что ни говорите в защиту этой почвы, но несомненно то, что на всей этой мерзости лежит собственно ей принадлежащий русский характер!" (цитата из писем к родным, 1849-1856)
Тургенев Иван Сергеевич (писатель, поэт, публицист):
"Он (Тургенев) сам говорил мне, что главная мысль, основная точка его книги ("Дым") состоит в фразе: "Если б провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве". Он объяснил мне, что это его основное убеждения о России". (цитата о Тургеневе из письма Достоевского Майкову, 16 (28) августа 1867)
Чехов Антон Павлович (писатель, драматург):
". Весь вечер искали по деревне, не продаст ли кто курицу, и не нашли. Зато водка есть! Русский человек большая свинья. Если спросить, почему он не ест мяса и рыбы, то он оправдывается отсутствием привоза, путей сообщения и т.п., а водка между тем есть даже в самых глухих деревнях и в количестве, каком угодно. А между тем, казалось бы, достать мясо и рыбу гораздо легче, чем водку, которая и дороже, и везти ее труднее. Нет, должно быть, пить водку гораздо интереснее, чем трудиться ловить рыбу в Байкале или разводить скот". (цитата из письма Чехова от 13 июня 1890 г. со ст. Лиственичная, на берегу Байкала (А.П. Чехов "Письма январь 1890 - февраль 1892 гг.", стр. 114))
Максим Горький (писатель, драматург):
"И вот этот маломощный, темный, органически склонный к анархизму народ ныне призывается быть духовным водителем мира, Мессией Европы. "вожди народа" не скрывают своего намерения зажечь из сырых русских поленьев костер, огонь которого осветил бы западный мир, тот мир, где огни социального творчества горят более ярко и разумно, чем у нас, на Руси. Костер зажгли, он горит плохо, воняет Русью, грязненькой, пьяной и жестокой". (цитата из источника: М.Горький Несвоевременные мысли (LII - LXIV): Заметки о революции и культуре 1917-1918 гг.)
Шукшин Василий Макарович (писатель, режиссер, актер)
"Ложь, ложь, ложь. Ложь - во спасение, ложь - во искупление вины, ложь - достижение цели, ложь - карьера, благополучие, ордена, квартира. Ложь! Вся Россия покрылась ложью как коростой". (цитата из "Рабочих записей" Шукшина, 1969 г.)
От редактора:
Справедливости ради следует заметить, что у всех этих же писателей и поэтов есть немало цитат прямо противоположного свойства - то бишь, о любви к России.
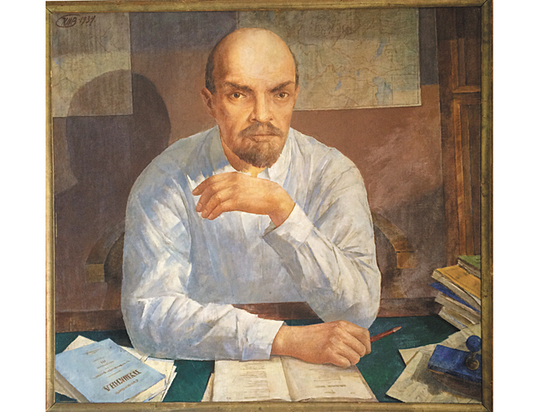
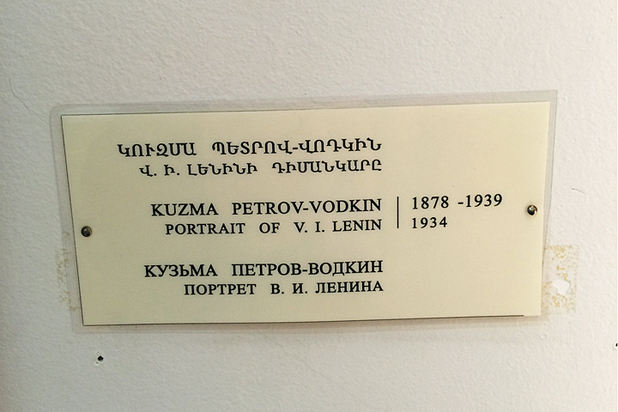
ХХVI. Ради красного словца
В конце Четвёртой главы зимой Ленский приехал в деревню к Онегину обедать.
Вдовы Клико или Моэта
Благословенное вино
В бутылке мёрзлой для поэта
На стол тотчас принесено.
Оно сверкает Ипокреной.
Оно сверкает Ипокреной;
Оно своей игрой и пеной
(Подобием того-сего)
Меня пленяло: за него
Последний бедный лепт, бывало,
Давал я. Помните ль, друзья?
Его волшебная струя
Рождала глупостей не мало,
А сколько шуток и стихов,
И споров и весёлых снов!
Вино меня пленяло — это Пушкин о себе. Гуляка праздный — вот и весь автопортрет. Шутки, стихи, весёлые сны — всё гладко, легко, беззаботно. Но одно место торчит — внимательный читатель спотыкается.
В нём укрывается отвага,
Его звездящаяся влага
Души божественной полна,
Свободно искрится она;
Как гордый ум не терпит плена,
Рвёт пробку резвою волной, —
И брызжет радостная пена
Подобье жизни молодой.
. за него (за вино)
Последний бедный лепт, бывало,
Давал я. Помните ль, друзья?
Более восторженной хвалы нам никогда не встречалось. Вот маленький фрагмент (для лучшего понимания прочтите, пожалуйста, вслух, торжественно):
На лиру с гордостью подъемлет взор певец.
О дивный век, когда певец царя — не льстец,
Когда хвала — восторг, глас лиры — глас народа,
Когда всё сладкое для сердца: честь, свобода,
Великость, слава, мир, отечество, алтарь —
Всё, всё слилось в одно святое слово: царь.
Правда, хорошо? Дальше не хуже:
И кто не закипит восторгом песнопенья,
Когда и Нищета под кровлею забвенья
Последний бедный лепт за лик твой отдаёт,
И он, как друга тень, отрадный свет лиёт
Немым присутствием в обители страданья!
Отрадный свет лиёт — то есть работает телевизором: кормит, греет, утешает, лечит (как Кашпировский). Ошпаренные кипятком поэтического восторга, люди не видят абсурдной ошибки: тень льёт свет! Или это сознательно? Мол, даже тень императора сияет, нарушая низкие законы физики.
Про Онегина, далёкого от поэзии, сказано:
Высокой страсти не имея
Для звуков жизни не щадить.
Пушкин эту страсть имел. Порою она толкала его на безумные поступки. Брала его за шиворот даже круче, чем тоска, которая
Поймала, за ворот взяла
И в тёмный угол заперла.
Да, Четвёртую главу напечатали лишь в 1828-м, когда Александр Пушкин был уже на свободе, а Александр I в могиле. Но написано было в 1825-м. И разве не наказывали за неопубликованное? Именно за неопубликованное могли и в каторгу упечь. Могли в любую минуту войти и забрать все бумаги. И Пушкин это отлично знал.
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснётся
Душа поэта встрепенётся.
Божественный глагол — это и есть голос Бога. Как тут промолчишь? А промолчишь — утратишь дар.
Василий Андреевич Жуковский
ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ
Послание
Везде обилие, надежда и покой.
И всё сие, наш царь, дано земле тобой.
Его душа чиста: в ней благость лишь одна,
Лишь пламенем к добру она воспалена.
Уполномоченный от неба судия —
О, сколь божественна в сей час душа твоя!
Сей полный взор любви, сей взор воспламененный —
За нас он возведен к правителю вселенной;
Склоняю, царь земли, колена пред тобой,
Бесстрашный под твоей незримою рукой,
Твоих намерений над ними совершитель.
Покойся, мой народ, не дремлет твой хранитель.
В чертоге, в хижине, везде один язык:
На праздниках семей украшенный твой лик —
Ликующих родных родной благотворитель —
Стоит на пиршеском столе веселья зритель,
И чаша первая и первый гимн тебе;
Цветущий юноша благодарит судьбе,
Что в твой прекрасный век он к жизни приступает,
И славой для него грядущее пылает;
Старик свой взор на гроб боится устремить
И смерть поспешную он молит погодить,
Чтоб жизни лучший цвет расцвёл перед могилой.
Понятно? Старики просят смерть, чтоб она дала им пожить подольше в земном раю под властью Александра I. Дальше вы уже знаете: Когда хвала — восторг, глас лиры — глас народа,/ Великость, слава, мир, отечество, алтарь —/ Всё, всё слилось в одно святое слово: царь./ Когда и Нищета под кровлею забвенья/ Последний бедный лепт за лик твой отдаёт. А потом так:
Пусть верности обет, отечество и честь
Велят нам за царя на жертву жизнь принесть
От подданных царю коленопреклоненье;
Но дань свободная, дань сердца — уваженье,
Не власти, не венцу, но человеку дань.
О царь, не скипетром блистающая длань,
Не прахом праотцев дарованная сила
Тебе любовь твоих народов покорила,
Но трона красота — великая душа.
Бессмертные дела смиренно соверша,
Воззри на твой народ, простертый пред тобою,
Благослови его державною рукою;
Тобою предводим, со славой перешед
Указанный творцом путь опыта и бед,
Преобразованный, исполнен жизни новой,
По манию царя на всё, на всё готовый.
Дядя Саша, мы с тобой! За тебя готовы в бой!
Здесь, окружая твой престол, Благословенный,
Подъемлем руку все к руке твоей священной;
Как пред ужасною святыней алтаря
Обет наш перед ней: всё в жертву за царя!
Ода здесь нами сокращена втрое. То ли старо, то ли свежо, то ли нечто из быта падишахов или фараонов, то ли про вчерашний день. или сегодняшний, или завтрашний.
Это послание — жесточайшее обличение и холуёв, и рабского порочного общества, и самого императора.
Александр Пушкин
К ЛИЦИНИЮ
(С латинского)
Лициний, зришь ли ты? на быстрой колеснице,
Увенчан лаврами, в блестящей багрянице,
Спесиво развалясь, Ветулий молодой
В толпу народную летит по мостовой.
Смотри, как все пред ним усердно спину клонят,
Как ликторов полки народ несчастный гонят.
Льстецов, сенаторов, прелестниц длинный ряд
С покорностью ему умильный мещут взгляд,
Ждут в тайном трепете улыбку, глаз движенья,
Как будто дивного богов благословенья;
И дети малые, и старцы с сединой
Стремятся все за ним и взором и душой,
И даже след колёс, в грязи напечатленный,
Как некий памятник им кажется священный.
О Ромулов народ! пред кем ты пал во прах?
Пред кем восчувствовал в душе столь низкой страх?
Любимец деспота Сенатом слабым правит,
На Рим простёр ярём, отечество бесславит.
Ветулий, римлян царь. О срам! о времена!
Или вселенная на гибель предана?
Лициний, добрый друг! не лучше ли и нам,
Отдав поклон мечте, Фортуне, суетам,
Седого стоика примером научиться?
Не лучше ль поскорей со градом распроститься,
Где всё на откупе: законы, правота,
И жёны, и мужья, и честь, и красота?
Пускай Глицерия, красавица младая,
Равно всем общая, как чаша круговая,
Других неопытных в любовну ловит сеть;
Нам стыдно слабости с морщинами иметь.
Я сердцем римлянин, кипит в груди свобода,
Во мне не дремлет дух великого народа.
Последние 12 строк — ужасное пророчество. Нахлынут жестокие дикари, и Рим погибнет; но не от пришельцев, а от собственного рабского разложения. И какая разница — издалека ли хлынули беспощадные дикари или выросли собственные, вырастили собственных. (И лучше не вспоминать, что Москва — Третий Рим.) Такие стихи, такие глаголы, конечно, жгут сердца людей. Такие стихи невозможно сочинить формально. Льстец действует холодно, по расчёту; его восторг всегда имеет явственный отвратительный привкус. Когда обличает поэт или пророк — личной выгоды они не ищут. Обличение приносит одни лишь неприятности. Иногда тюрьму и ссылку, иногда смерть. Обличение — только от души.
Это жесточайшие политические стихи. В пустыню! Ибо изменить невозможно ни императора, ни общество. В пустыню!
В 1816-м директор Лицея Энгельгардт написал о Пушкине
Его ум, не имея ни проницательности, ни глубины, совершенно поверхностный — французский ум. Его сердце холодно и пусто. может быть, оно так пусто, как никогда ещё не бывало юношеское сердце.
Прелести кнута в эпиграмме 1818-го — тоже не случайные слова. Эта мысль будет повторена в 1823-м: паситесь мирные народы — наследство вам (на поколения вперёд) ярмо и бич.
Мальчик нападал на лучших — на Жуковского, на Карамзина! — нападал отчаянно. Это пылкое сердце. Стыдись, Энгельгардт.
ХХVII. Во мраке заточенья
Сегодня мы не можем даже вообразить, как он жил в Михайловском и что чувствовал. Ссылка-то была бессрочная. Это сейчас осуждённый знает, сколько ему сидеть. А если будет вести себя хорошо, то вдвое меньше. Но Пушкин был сослан без приговора суда. Бессрочно — то есть навечно.
В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои.
Мрак заточенья — вот как он сам воспринимал своё ужасное положение. Друзья ужасались чуть ли не больше, чем ссыльный.
П.А.Вяземский — А.И.Тургеневу
13 августа 1824.
Кто творец этого бесчеловечного убийства? Или не убийство — заточить пылкого, кипучего юношу в деревне русской? Правительство верно было обольщено ложными сплетнями. Да и что такое за наказание за вины, которые не подходят ни под какое право? Неужели в столицах нет людей, более виновных Пушкина? Сколько вижу из них обрызганных грязью и кровью! А тут за необдуманное слово, за неосторожный стих предают человека на жертву. Да и постигают ли те, которые вовлекли власть в эту меру, что есть ссылка в деревне на Руси? Должно точно быть богатырём духовным, чтобы устоять против этой пытки. Страшусь за Пушкина! В его лета, с его душою, которая также кипучая бездна огня, нельзя надеяться, чтобы одно занятие, одна деятельность мыслей удовольствовали бы его. Тут поневоле примешься за твое геттингенское лекарство: пить пунш. Признаюсь, я не иначе смотрю на ссылку Пушкина, как на coup de grâce (смертельный удар.— фр.), что нанесли ему. Не предвижу для него исхода из этой бездны.
Пушкин не знал, что его выпустят. Знал бы, что в сентябре 1826 его ждёт свобода, — не планировал бы побег. А он планировал подробно: маршрут, необходимые вещи, поддельные бумаги. Он допускал, что ссылка вечная — в глуши, во мраке заточенья — не только без радио и ТВ, но и без товарищей (которые у нынешних ссыльных есть). Смертельное состояние. И — Онегин! Сверкающий, лёгкий, ироничный; без тоски; сегодня сказали бы: позитив.
От императора он прощения не ждал. Просьбы (отпустить за границу на лечение) оставались без ответа. Александр I был в расцвете сил, рассчитывать на его скорую смерть было невозможно.
Пушкин — П.А.Вяземскому
27 мая 1826.
Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? Если царь даст мне свободу, то я месяца не останусь. Мы живём в печальном веке, но когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, английские журналы или парижские театры и бордели, то моё глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство. В 4-й песне Онегина я изобразил свою жизнь; когда-нибудь прочтёшь его и спросишь с милою улыбкой: где ж мой поэт? в нём дарование приметно. Услышишь, милая, в ответ: он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится, — ай да умница! Прощай!
Милый доктор спьяна сказал мне, что без операции я не дотяну до 30 лет. Не забавно умереть в Опоческом уезде.
Ещё труднее понять, как в этой беспросветной ситуации, во мраке, он сочинял такие свободные сверкающие стихи, полные ума и остроумия.
ХХVIII. Je puis créer*
* Я могу творить. — фр.
Пушкин — Вяземскому.
7 ноября 1825 года. Михайловское.
Трагедия моя кончена; я перечёл её вслух, один, и бил в ладоши и кричал: ай-да Пушкин, ай-да сукин сын!
Куда мне деться в этом январе?
Открытый город сумасбродно цепок.
От замкнутых я, что ли, пьян дверей? —
И хочется мычать от всех замков и скрепок.
И в яму, в бородавчатую темь
Скольжу к обледенелой водокачке
И, спотыкаясь, мёртвый воздух ем,
И разлетаются грачи в горячке —
А я за ними ахаю, крича
В какой-то мёрзлый деревянный короб:
— Читателя! советчика! врача!
На лестнице колючей разговора б!
Февраль, 1937
(100-летие со дня гибели Пушкина, так уж совпало)
Перечёл вслух, один. А почему? Он же не в одиночке сидел. Вокруг полно народу — крестьяне, дворня — русские люди. Но им он не может читать. Он же не сумасшедший. Там стена.
ПИМЕН.
О страшное, невиданное горе!
Прогневали мы бога, согрешили:
Владыкою себе цареубийцу
Мы нарекли.
Какое действие произвело на всех нас это чтение — передать невозможно. Мы собрались слушать Пушкина, воспитанные на стихах Ломоносова, Державина, Хераскова, Озерова, которых все мы знали наизусть. Надо припомнить и образ чтения стихов, господствовавший в то время. Это был распев, завещанный французскою декламацией. Вместо высокопарного языка богов мы услышали простую ясную, обыкновенную и, между тем, — поэтическую, увлекательную речь!
Но царская свобода выглядит иначе, чем поэтическая, да и просто человеческая.
А.Х.Бенкендорф — Пушкину.
22 ноября 1826. Петербург.
При отъезде моём из Москвы обратился я к вам письменно с объявлением высочайшего соизволения, дабы вы, в случае каких-либо новых литературных произведений ваших, до напечатания или распространения оных в рукописях, представляли бы предварительно о рассмотрении оных, или через посредство моё, или даже и прямо, его императорскому величеству.
Ныне доходят до меня сведения, что вы изволили читать в некоторых обществах сочинённую вами вновь трагедию.
Сие меня побуждает вас покорнейше просить об уведомлении меня, справедливо ли таковое известие, или нет. Я уверен, впрочем, что вы слишком благомыслящи, чтобы не чувствовать в полной мере столь великодушного к вам монаршего снисхождения и не стремиться учинить себя достойным оного.
С совершенным почтением имею честь быть ваш покорный слуга А.Бенкендорф.
Царь или бессмысленный народ — какая разница? Пушкин её не видит.
Иные, лучшие, мне дороги права;
Иная, лучшая, потребна мне свобода:
Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не всё ли нам равно? Бог с ними. Никому
Отчёта не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи.
Вот счастье! вот права.
П.А.Катенин — приятелю.
1 февраля 1831.
Ты требуешь обстоятельного отзыва о Годунове: не смею ослушаться. Во многих подробностях есть ум без сомненья, но целое не обнято; я уж не говорю в драматическом смысле, оно не драма отнюдь, а кусок истории, разбитый на мелкие куски в разговорах; и в этом отношении слишком многого недостает. Следовало сначала Бориса показать во всём величии; напротив, первое появленье Царя сухо, а второе шесть лет спустя уже тоскливое. Патриарх рассказывает чудо, сотворенное новым угодником Углицким, и курсивом напечатано: Годунов несколько раз утирается платком: немецкая глупость, мы должны видеть смуту государя-преступника из его слов, или из слов свидетелей, а не из пантомимы в скобках печатной книги. Наставленья умирающего сыну длинны. Женский крик, когда режут, — мерзость. Самозванец не имеет решительной физиономии; признанье Марине в саду — глупость. Словом, всё недостаточно, многого нет.
Возвращаясь к Борису Годунову, желаю спросить: что от него пользы белому свету? На театр он нейдёт, поэмой его назвать нельзя, ни романом, ни историей в лицах, ничем. Для которого из чувств человеческих он имеет цену или достоинство? Кому будет охота его читать, когда пройдёт первое любопытство?
Не понял знаменитый трагик, восхищавший всех, в том числе и Пушкина.
Критики в 1831-м не знали, что Автор уже ответил им в 1825-м.
Пушкин — Н.Н.Раевскому-сыну
(по-французски)
Июль 1825. Михайловское
Я живу в полном одиночестве: у меня буквально нет другого общества, кроме старушки няни и моей трагедии; последняя подвигается, и я доволен этим. Сочиняя её, я стал размышлять над трагедией вообще. Это, может быть, наименее правильно понимаемый род поэзии. И классики и романтики основывали свои правила на правдоподобии, а между тем именно оно-то и исключается самой природой драматического произведения. Не говоря уже о времени и проч., какое, к чёрту, может быть правдоподобие в зале, разделённой на две половины, в одной из коих помещается две тысячи человек, будто бы невидимых для тех, кто находится на подмостках. Вспомните древних: их трагические маски, их двойные роли, — всё это не есть ли условное неправдоподобие? Истинные гении трагедии никогда не заботились о правдоподобии.
Читайте Шекспира, он никогда не боится скомпрометировать своего героя, он заставляет его говорить с полнейшей непринуждённостью, как в жизни, ибо уверен, что в надлежащую минуту и при надлежащих обстоятельствах он найдёт для него язык, соответствующий его характеру.
Вы спросите меня: а ваша трагедия — трагедия характеров или нравов? Я избрал наиболее лёгкий род, но попытался соединить и то и другое. Я пишу и размышляю. Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, я могу творить. (Je sens que mon âme s’est tout-à-fait dévelopée, je puis créer. — фр.)
В суету городов и в потоки машин
Возвращаемся мы — просто некуда деться!
И спускаемся вниз с покорённых вершин,
Оставляя в горах, оставляя в горах своё сердце.
Продолжение следует.
Читайте также:


