Что убивает био вирус
Как ученые создают новые лекарства? Рассказывает молекулярный биолог Константин Северинов
За эпидемиями экзотических вирусов в СМИ следят как за концом света, хотя ученые уже умеют с ними работать: геном китайского коронавируса был расшифрован за десять дней. При этом люди каждый день лечат банальную простуду антибиотиками из аптеки, даже не выясняя, какая у них инфекция — вирусная или бактериальная. Даже примитивные бактерии теперь становятся для нас смертельно опасны: они научились игнорировать антибиотики.
Текст:
Даниил Давыдов, Кирилл Руков
Пневмонию (то есть воспаление легких) могут вызвать и вирусы, и бактерии, но вот бороться с ними нужно совершенно по-разному.
Бактерии — это живые одноклеточные организмы. Попадая в человека, они размножаются, попутно повреждая клетки и ткани — так развивается болезнь. Чтобы бороться с бактериями, ученые разрабатывают специальные яды — антибиотики, которые убивают сам возбудитель внутри тела. Но чем чаще мы их используем, тем быстрее бактерии вырабатывают устойчивость к антибиотикам.
Вирусы — совсем другое, их даже вряд ли можно назвать живыми. Это просто оболочка, внутри которой гены — ДНК или РНК. Попадая в организм, вирус внедряет генетический материал в клетки и заставляет их штамповать свои копии. Очистить уже зараженное тело от вируса лекарствами невозможно, яды-антибиотики на них не действуют. Поэтому ученые придумали прививки — чтобы при встрече организм здорового, привитого человека сразу узнал вирус и не дал ему размножиться.

У большинства новых экзотических вирусов первоначальными хозяевами были животные ( как и у нового коронавируса из Китая — Прим. ред.). Возрастающее давление человека на дикую природу увеличивает количество контактов между людьми и экзотическим зверями — там, где они еще остались. Сначала эти новые вирусы высокопатогенны, то есть сильно вредят здоровью заразившегося. Но, адаптировавшись к человеку, они, как правило, становятся менее опасными, ведь для успешной эпидемии вирусу важно не убить зараженного хозяина, а распространиться на как можно большее количество особей.
Для обычных россиян вероятность подцепить бактериальную инфекцию, которая будет устойчива ко всем основным антибиотикам, сейчас гораздо выше, чем заразиться экзотическим вирусом, вспышка которого произошла в Африке или Китае.
Проблема с вирусами в том, что мы не умеем направленно уничтожать их внутри пациента. В этом принципиальное отличие от бактериальных болезней, где антибиотики действительно убивают возбудителя. Поэтому лучший способ предотвращения вирусных инфекций — вакцинация еще здоровых людей.
Современные методы молекулярной биологии позволяют создавать потенциальные вакцины против новых вирусов за полгода или даже за меньший срок. Однако затем потребуются еще несколько лет, чтобы доказать безопасность и эффективность вакцины, сертифицировать ее, ввести в график прививок, произвести в достаточных количествах и так далее. К тому времени про сегодняшний вирус все забудут, возникнет другой. Поэтому поголовное вакцинирование жителей России пока еще несуществующей вакциной от уханьского вируса, — дело совершенно ненужное. Хотя понятно, что деятельность по такой разработке очень выгодна и политикам, и ученым, и промышленникам, которые получают на нее контракты.
Ученые отделяют кусочки оболочки от вируса (поверхностные белки) таким же способом, каким создают и столь нелюбимые многими ГМО. Потом эти высокоочищенные препараты вводят в организм в надежде получить иммунный ответ — то есть антитела организма, которые будут узнавать эти кусочки, а следовательно, и вирус. Затем, чтобы доказать, что вакцина работает, необходимо продемонстрировать, что после прививки не будет происходить заражения и не разовьется болезнь. Делать это на людях неэтично: для китайского вируса вам пришлось бы провакцинировать группу здоровых людей, затем заразить их вирусом, а контрольную группу заразить без вакцинирования (из последних многие бы умерли). Поэтому опыты ставят на клеточных культурах или на животных, например крысах. Но даже это не гарантирует успех, ведь человек и модельное животное не одно и то же.
Это сложно и дорого. В основном ученые стремятся модифицировать уже существующие антибиотики. Но это нельзя делать до бесконечности, рано или поздно приходится искать новые (фармкомпании неохотно берутся за это, такой проект рискованный с точки зрения финансовых вложений: в среднем разработка одного успешного зарубежного лекарства занимает десять лет и обходится в 2,6 миллиарда долларов. — Прим ред.) .
Сама эта устойчивость у бактерий возникает в результате искусственного отбора — антибиотики широко применяются в сельском хозяйстве ( до 80 % всех антибиотиков вообще используют для лечения скота, причем примерно 97 % были куплены без рецепта , — прим. ред. ), в клиниках, а также обычными людьми в странах, где их отпускают без рецепта. Количество чувствительных к антибиотикам бактерий падает, количество устойчивых — увеличивается (например, самый первый антибиотик — пенициллин — сейчас уже не используется: у бактерий к нему развилась практически полная устойчивость. — Прим. ред.) .
С этой целью используют, например, бацитрацин, монензин и неомицин.
В лаборатории Северинова с этой целью используют стратегию биоинформатического геномного поиска: ищут в образцах генома бактерий участки, ответственные за синтез антибиотиков. Это очень медленный процесс, но в результате был найден принципиально новый антибиотик — клебсазолицин.
Принесла вам тут бактериологического оружия немножк в ленту.
Предвосхищая все вопросы. Не из моего учреждения, ничего конкретного об этом случае не знаю. pic.twitter.com/kYFv2ty5r4
Пока что имеющиеся антибиотики все еще работают в большинстве случаев. Но повсеместное распространение бактерий с устойчивостью приведет к катастрофическим с точки зрения современного человека последствиям, потому что мы вернемся в другую благословенную доантибиотиковую эру — с крайне высокой детской смертностью, смертностью от внутрибольничных инфекций, простых ран и тому подобного.
Правительства развитых стран должны обеспечивать проведение исследований в области наук о жизни на передовом уровне. Дело не только в финансировании, но и в создании условий для продуктивной работы ученых, в инфраструктуре, быстром обмене данными — то есть в том, без чего невозможна передовая наука. Сейчас оборудование и реагенты, которые нужны для быстрого определения новых возбудителей, создают и производят лишь в США, Великобритании и с недавнего времени в Китае. Понятно, что другие страны, которые полностью зависят от иностранных приборов и технологий, не смогут с ними конкурировать.
Все как всегда: соблюдайте правила гигиены, избегайте поездок в экзотические места, ведите размеренный и материально благополучный образ жизни — нужно иметь доступ к квалифицированным врачам. И постарайтесь ограничить использование антибиотиков.
Нужен запрет на генно-инженерные работы по усилению патогенности
14.04.2020 в 16:25, просмотров: 11924
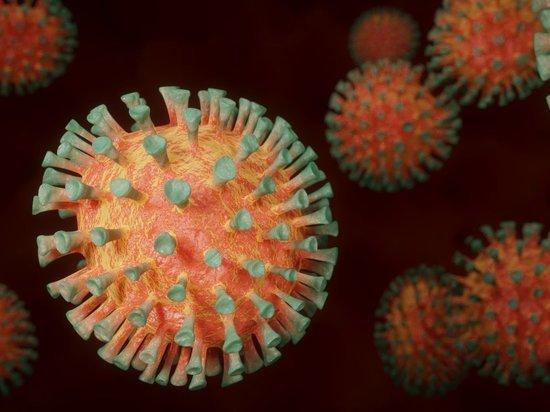
-Игорь Викторович, как известно, есть Конвенция 1972 года о запрещении биологического оружия. Она применима в ситуации с коронавирусом?
-Конвенция есть. Ее подписали и ратифицировали примерно 170 стран. Но пока это просто декларация. То есть в начале 70-х годов страны согласились с тем, что существуют большие риски от биологического оружия, что оно непредсказуемо. Но не более того. Нет никакого механизма контроля. А раз нет механизма контроля, нет, грубо говоря, полиции, которая контролирует порядок, то нарушения этого порядка, безусловно, будут.
-То есть такой структуры, как Организация по запрещению химического оружия – ОЗХО, в области международной биологической безопасности не создано?
-Так и есть. В 2001 году Россия вышла с предложением создать полномасштабный механизм контроля – то есть организацию, наподобие ОЗХО - только по биологическому оружию. Но в тот момент британцы и американцы отказались подписывать протокол и вышли из переговорного процесса.
На этом трехсторонняя рабочая группа, которая была создана для обсуждения вопросов контроля за соблюдением Конвенции по биооружию, прекратила свою работу. В нее входили как раз США, Великобритания и Россия, как страны, которые на тот момент владели самыми современными наработками в области биологического оружия.
-Да, поняли, что все может плохо кончится без всякой мировой войны. В США в 60-е годы произошло несколько опасных инцидентов, связанных со случайным, скажем так, распространением биологического оружия. Было ЧП во время учений авиации в одном из штатов. Экипаж самолета по ошибке распылил споры, по-моему, сибирской язвы. В результате погибло несколько тысяч овец и люди, которые оказались в зоне заражения.
Сработал исключительно случайно человеческий фактор. Летчики отрабатывали полеты на распыление боевых биологических веществ и по ошибке сделали все по-настоящему.
Это напугало администрацию президента Ричарда Никсона, и США фактически выступили инициаторами подписания соглашения о запрете биологического оружия.
-К боевой эффективности биологического оружия, наверное, тоже были вопросы? Ведь, грубо говоря, за выпущенным вирусом не так просто уследить и в пробирку его не загонишь?
-Конечно. Вирусы, их штаммы, попав на территорию, могут десятилетиями сохранять свою опасность. Вот у нас периодически появляются новости из разных регионов о том, что где-то разрыли случайно скотомогильник с погибшими во время эпидемии животными. И каждый раз это ЧП, потому что есть опасность вспышки той давней болезни.
Почему американцы согласились в тот момент? Поняли, что это оружие крайне непредсказуемое. Избавиться от него очень сложно, потому что оно самовоспроизводящееся. Химическое оружие разлагается со временем или под воздействием природных факторов. Загрязненную территорию можно очистить, а дальше – делай что хочешь. А с биологическим оружием – так не получается.
-Немало. Но надо сказать, что США опережали в этих технологиях Советский Союз лет на 20, как минимум. Достаточно вспомнить, что еще в 1943 году американцы доставили в Великобританию 500 тысяч(!) боеприпасов со спорами той же сибирской язвы.
У Советского Союза в его истории таких запасов боевого биологического оружия не было никогда. Это я со всей определенностью могу сказать. Это, кстати, зафиксировали эксперты трехсторонней комиссии. Они неоднократно инспектировали наши объекты в Оболенске, Новосибирске, Кирове, других местах. Никаких запасов биологического оружия в России не обнаружили.
У нашей страны стратегия в опросе биологического орудия всегда была оборонительной, в отличие от наших оппонентов, которые делали ставку на наступательную стратегию.
-То есть когда-то элементы контроля были? А все страны уничтожили запасы биологического оружия?
-Это не известно. Думаю, что не все. Да, после подписания Конвенции те же американцы уничтожили свои запасы. Но что они делали, какие исследования проводили последние 20 лет – мы не знаем. И никто этого не знает, по большому счету. Как выяснилось недавно, этого не знает даже президент Дональд Трамп.
Я считаю, что в Америке еще в августе прошлого года началась эпидемия коронавируса COVID-19. Потому что именно тогда был закрыт их крупнейший медико-биологический центр в Форте Детрик штата Мэриленд.
К тому времени заразившихся было уже 500 человек, погибло человек 30. Так что, похоже, эта инфекция появилась в США раньше, чем в Китае.
-Ну, или похожая на COVID-19.
-В любом случае, чтобы сказать – тот это штамм или он чем-то отличается от COVID-19, США должны были предоставить какой-нибудь международной авторитетной комиссии образцы выявленного штамма. Они же этого не сделали.
-Вы имеете в виду, кто первоначальный носитель – летучие мыши или змеи?
-Недавно один авторитетный ученый, замдиректора эпидемиологии Роспортебнадзора, выступал по телевизору и сказал, что у ученых проблема с созданием вакцины: они не могут найти животное, через которое это вирус мог распространяться. Это значит, что он целиком синтетический, то есть, создан в лаборатории.
Эксперименты, которые проводили американские исследователи по созданию нового патогена, они преступны. Это открытое и явное нарушение Конвенции.
-А есть опасность, что террористы могут воспользоваться биологическим оружием?
Биологическое оружие, повторюсь, гораздо более сложное, с точки зрения хранения, распространения, транспортировки и всего остального. И самое главное – его потом очень сложно остановить.
-Можно сравнивать коронавирус по последствиям пандемии, например, со спорами сибирской язвы?
-Конечно можно. Этот вирус, может, не входит в группу самых опасных. Но по тому, что происходит в Италии, Испании, тех же США, можно говорить о высоком уровне опасности. Летальность среди заразившихся на уровне 16-17% - это очень серьезный показатель. По общепринятым нормативам, летальность на уровне 12% и выше – это уже первая группа опасности.
-Те наработки, что были у СССР, когда всерьез готовились к мировой войне, в том числе с использованием биологического оружия, они сохранились? Помогают нам в борьбе с новой заразой?
-Наработки 70-80-х годов советского периода были направлены на то, чтобы оценить возможности генно-инженерного моделирования бактерий и вирусов. В тот момент ученые пришли к выводу, что особой угрозы нет, тревожиться не о чем. Потому что наиболее опасные патогены созданы природой.
Но, к сожалению, сейчас ситуация кардинально изменилась, и тот подход требует корректировки. Проблема в том, что развитие биологической науки последние 50 лет связано с генной инженерией. И против новых генно-инженерных бактерий и вирусов, полученных в последние 20-30 лет, у человека нет никакого иммунитета. Именно поэтому крайне опасно иметь с ними дело.
Даже не самый опасный вирус приводит к катастрофическим последствиям, в том числе для всей мировой экономики. Он поставил на уши всю планету. Из-за того, что он принципиально новый, и не имеет аналогов. Никакой иммунной защиты у людей от него нет.
Нельзя исключить, что вирус запущен для создания паники по всему миру. Чтобы побольше людей заразилось. Ту же эболу с летальностью на уровне в 50% быстро бы локализовали. И никакого экономического ущерба она бы не нанесла. А тут длительный инкубационный период как раз способствует тому, чтобы заразилось как можно больше людей. Можно сказать, что это биологическое оружие нового поколения, оружие массового заражения.
-Пандемия может подтолкнуть человечество к более решительным шагам в области полного и окончательного запрета биологического оружия и любой разработки опасных штаммов?
-Надеюсь, что подтолкнет. Если даже такая глобальная угроза, смерть сотен тысяч людей не заставят задуматься, то я уже не знаю, какой еще гром должен грянуть.
Генно-инженерные работы по усилению патогенности тех или иных микроорганизмов или вирусов должны быть поставлены под запрет окончательный и бесповоротный. Иначе человечество неминуемо будет сталкиваться с глобальной угрозой.
- 16227
- 9,3
- 2
- 4
Обратите внимание!
Спонсоры конкурса: Лаборатория биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions и Студия научной графики, анимации и моделирования Visual Science.
Эволюция и происхождение вирусов
В 2007 году сотрудники биологического факультета МГУ Л. Нефедова и А. Ким описали, как мог появиться один из видов вирусов — ретровирусы. Они провели сравнительный анализ геномов дрозофилы D. melanogaster и ее эндосимбионта (микроорганизма, живущего внутри дрозофилы) — бактерии Wolbachia pipientis. Полученные данные показали, что эндогенные ретровирусы группы gypsy могли произойти от мобильных элементов генома — ретротранспозонов. Причиной этому стало появление у ретротранспозонов одного нового гена — env, — который и превратил их в вирусы. Этот ген позволяет вирусам передаваться горизонтально, от клетки к клетке и от носителя к носителю, чего ретротранспозоны делать не могли. Именно так, как показал анализ, ретровирус gypsy передался из генома дрозофилы ее симбионту — вольбахии [7]. Это открытие упомянуто здесь не случайно. Оно нам понадобится для того, чтобы понять, чем вызваны трудности борьбы с вирусами.
Из давних письменных источников, оставленных историком Фукидидом и знахарем Галеном, нам известно о первых вирусных эпидемиях, возникших в Древней Греции в 430 году до н.э. и в Риме в 166 году. Часть вирусологов предполагает, что в Риме могла произойти первая зафиксированная в источниках эпидемия оспы. Тогда от неизвестного смертоносного вируса по всей Римской империи погибло несколько миллионов человек [8]. И с того времени европейский континент уже регулярно подвергался опустошающим нашествиям всевозможных эпидемий — в первую очередь, чумы, холеры и натуральной оспы. Эпидемии внезапно приходили одна за другой вместе с перемещавшимися на дальние расстояния людьми и опустошали целые города. И так же внезапно прекращались, ничем не проявляя себя сотни лет.
Вирус натуральной оспы стал первым инфекционным носителем, который представлял действительную угрозу для человечества и от которого погибало большое количество людей. Свирепствовавшая в средние века оспа буквально выкашивала целые города, оставляя после себя огромные кладбища погибших. В 2007 году в журнале Национальной академии наук США (PNAS) вышла работа группы американских ученых — И. Дэймона и его коллег, — которым на основе геномного анализа удалось установить предположительное время возникновения вируса натуральной оспы: более 16 тысяч лет назад. Интересно, что в этой же статье ученые недоумевают по поводу своего открытия: как так случилось, что, несмотря на древний возраст вируса, эпидемии оспы не упоминаются в Библии, а также в книгах древних римлян и греков [9]?
Строение вирусов и иммунный ответ организма

Рисунок 1. Первооткрыватель вирусов Д.И. Ивановский (1864–1920) (слева) и английский врач Эдвард Дженнер (справа).

Почти все известные науке вирусы имеют свою специфическую мишень в живом организме — определенный рецептор на поверхности клетки, к которому и прикрепляется вирус. Этот вирусный механизм и предопределяет, какие именно клетки пострадают от инфекции. К примеру, вирус полиомиелита может прикрепляться лишь к нейронам и потому поражает именно их, в то время как вирусы гепатита поражают только клетки печени. Некоторые вирусы — например, вирус гриппа А-типа и риновирус — прикрепляются к рецепторам гликофорин А и ICAM-1, которые характерны для нескольких видов клеток. Вирус иммунодефицита избирает в качестве мишеней целый ряд клеток: в первую очередь, клетки иммунной системы (Т-хелперы, макрофаги), а также эозинофилы, тимоциты, дендритные клетки, астроциты и другие, несущие на своей мембране специфический рецептор СD-4 и CXCR4-корецептор [13–15].

Одновременно с этим в организме реализуется еще один, молекулярный, защитный механизм: пораженные вирусом клетки начинают производить специальные белки — интерфероны, — о которых многие слышали в связи с гриппозной инфекцией. Существует три основных вида интерферонов. Синтез интерферона-альфа (ИФ-α) стимулируют лейкоциты. Он участвует в борьбе с вирусами и обладает противоопухолевым действием. Интерферон-бета (ИФ-β) производят клетки соединительной ткани, фибробласты. Он обладает таким же действием, как и ИФ-α, только с уклоном в противоопухолевый эффект. Интерферон-гамма (ИФ-γ) синтезируют Т-клетки (Т-хелперы и (СD8+) Т-лимфоциты), что придает ему свойства иммуномодулятора, усиливающего или ослабляющего иммунитет. Как именно интерфероны борются с вирусами? Они могут, в частности, блокировать работу чужеродных нуклеиновых кислот, не давая вирусу возможности реплицироваться (размножаться).

Причины поражений в борьбе с ВИЧ
Тем не менее нельзя сказать, что ничего не делается в борьбе с ВИЧ и нет никаких подвижек в этом вопросе. Сегодня уже определены перспективные направления в исследованиях, главные из которых: использование антисмысловых молекул (антисмысловых РНК), РНК-интерференция, аптамерная и химерная технологии [12]. Но пока эти антивирусные методы — дело научных институтов, а не широкой клинической практики*. И потому более миллиона человек, по официальным данным ВОЗ, погибают ежегодно от причин, связанных с ВИЧ и СПИДом.

Рисунок 5. Схема развития феномена ADE при вирусных инфекциях. а — Взаимодействие между антителом и рецептором FcR на поверхности макрофага. б — Фрагмент С3 комплемента (компонент комплемента, после присоединения которого весь этот комплекс приобретает способность прилипать к различным частицам и клеткам) и рецептор комплемента (complement receptor, CR) способствуют присоединению вируса к клетке. в — Белки комплемента С1q и С1qR способствуют присоединению вируса к клетке (в составе молекулы C1q имеется рецептор для связывания с Fc-фрагментом молекулы антитела). г — Антитела взаимодействуют с рецептор-связывающим сайтом вирусного белка и индуцируют его конформационные изменения, облегчающие слияние вируса с мембраной. д — Вирусы, получившие возможность реплицироваться в данной клетке посредством ADE, супрессируют противовирусные ответы со стороны антивирусных генов клетки. Рисунок с сайта supotnitskiy.ru.
Подобный вирусный механизм характерен не только для ВИЧ. Он описан и при инфицировании некоторыми другими опасными вирусами: такими, как вирусы Денге и Эбола. Но при ВИЧ антителозависимое усиление инфекции сопровождается еще несколькими факторами, делая его опасным и почти неуязвимым. Так, в 1991 году американские клеточные биологи из Мэриленда (Дж. Гудсмит с коллегами), изучая иммунный ответ на ВИЧ-вакцину, обнаружили так называемый феномен антигенного импринтинга [23]. Он был описан еще в далеком 1953 году при изучении вируса гриппа. Оказалось, что иммунная система запоминает самый первый вариант вируса ВИЧ и вырабатывает к нему специфические антитела. Когда вирус видоизменяется в результате точечных мутаций, а это происходит часто и быстро, иммунная система почему-то не реагирует на эти изменения, продолжая производить антитела к самому первому варианту вируса. Именно этот феномен, как считает ряд ученых, стоит препятствием перед созданием эффективной вакцины против ВИЧ.

Открытие биологов из МГУ — Нефёдовой и Кима, — о котором упоминалось в самом начале, также говорит в пользу этой, эволюционной, версии.

Сегодня не только ВИЧ представляет опасность для человечества, хотя он, конечно, самый главный наш вирусный враг. Так сложилось, что СМИ уделяют внимание, в основном, молниеносным инфекциям, вроде атипичной пневмонии или МЕRS, которыми быстро заражается сравнительно большое количество людей (и немало гибнет). Из-за этого в тени остаются медленно текущие инфекции, которые сегодня гораздо опаснее и коварнее коронавирусов* и даже вируса Эбола. К примеру, мало кто знает о мировой эпидемии гепатита С, вирус которого был открыт в 1989 году**. А ведь по всему миру сейчас насчитывается 150 млн человек — носителей вируса гепатита С! И, по данным ВОЗ, каждый год от этой инфекции умирает 350-500 тысяч человек [33]. Для сравнения — от лихорадки Эбола в 2014-2015 гг. (на состояние по июнь 2015 г.) погибли 11 184 человека [34].
* — Коронавирусы — РНК-содержащие вирусы, поверхность которых покрыта булавовидными отростками, придающими им форму короны. Коронавирусы поражают альвеолярный эпителий (выстилку легочных альвеол), повышая проницаемость клеток, что приводит к нарушению водно-электролитного баланса и развитию пневмонии.

Рисунок 8. Электронная микрофотография воссозданного вируса H1N1, вызвавшего эпидемию в 1918 г. Рисунок с сайта phil.cdc.gov.
Почему же вдруг сложилась такая ситуация, что буквально каждый год появляются новые, всё более опасные формы вирусов? По мнению ученых, главные причины — это сомкнутость популяции, когда происходит тесный контакт людей при их большом количестве, и снижение иммунитета вследствие загрязнения среды обитания и стрессов. Научный и технический прогресс создал такие возможности и средства передвижения, что носитель опасной инфекции уже через несколько суток может добраться с одного континента на другой, преодолев тысячи километров.
Как ученые создают новые лекарства? Рассказывает молекулярный биолог Константин Северинов
За эпидемиями экзотических вирусов в СМИ следят как за концом света, хотя ученые уже умеют с ними работать: геном китайского коронавируса был расшифрован за десять дней. При этом люди каждый день лечат банальную простуду антибиотиками из аптеки, даже не выясняя, какая у них инфекция — вирусная или бактериальная. Даже примитивные бактерии теперь становятся для нас смертельно опасны: они научились игнорировать антибиотики.
Текст:
Даниил Давыдов, Кирилл Руков
Пневмонию (то есть воспаление легких) могут вызвать и вирусы, и бактерии, но вот бороться с ними нужно совершенно по-разному.
Бактерии — это живые одноклеточные организмы. Попадая в человека, они размножаются, попутно повреждая клетки и ткани — так развивается болезнь. Чтобы бороться с бактериями, ученые разрабатывают специальные яды — антибиотики, которые убивают сам возбудитель внутри тела. Но чем чаще мы их используем, тем быстрее бактерии вырабатывают устойчивость к антибиотикам.
Вирусы — совсем другое, их даже вряд ли можно назвать живыми. Это просто оболочка, внутри которой гены — ДНК или РНК. Попадая в организм, вирус внедряет генетический материал в клетки и заставляет их штамповать свои копии. Очистить уже зараженное тело от вируса лекарствами невозможно, яды-антибиотики на них не действуют. Поэтому ученые придумали прививки — чтобы при встрече организм здорового, привитого человека сразу узнал вирус и не дал ему размножиться.

У большинства новых экзотических вирусов первоначальными хозяевами были животные ( как и у нового коронавируса из Китая — Прим. ред.). Возрастающее давление человека на дикую природу увеличивает количество контактов между людьми и экзотическим зверями — там, где они еще остались. Сначала эти новые вирусы высокопатогенны, то есть сильно вредят здоровью заразившегося. Но, адаптировавшись к человеку, они, как правило, становятся менее опасными, ведь для успешной эпидемии вирусу важно не убить зараженного хозяина, а распространиться на как можно большее количество особей.
Для обычных россиян вероятность подцепить бактериальную инфекцию, которая будет устойчива ко всем основным антибиотикам, сейчас гораздо выше, чем заразиться экзотическим вирусом, вспышка которого произошла в Африке или Китае.
Проблема с вирусами в том, что мы не умеем направленно уничтожать их внутри пациента. В этом принципиальное отличие от бактериальных болезней, где антибиотики действительно убивают возбудителя. Поэтому лучший способ предотвращения вирусных инфекций — вакцинация еще здоровых людей.
Современные методы молекулярной биологии позволяют создавать потенциальные вакцины против новых вирусов за полгода или даже за меньший срок. Однако затем потребуются еще несколько лет, чтобы доказать безопасность и эффективность вакцины, сертифицировать ее, ввести в график прививок, произвести в достаточных количествах и так далее. К тому времени про сегодняшний вирус все забудут, возникнет другой. Поэтому поголовное вакцинирование жителей России пока еще несуществующей вакциной от уханьского вируса, — дело совершенно ненужное. Хотя понятно, что деятельность по такой разработке очень выгодна и политикам, и ученым, и промышленникам, которые получают на нее контракты.
Ученые отделяют кусочки оболочки от вируса (поверхностные белки) таким же способом, каким создают и столь нелюбимые многими ГМО. Потом эти высокоочищенные препараты вводят в организм в надежде получить иммунный ответ — то есть антитела организма, которые будут узнавать эти кусочки, а следовательно, и вирус. Затем, чтобы доказать, что вакцина работает, необходимо продемонстрировать, что после прививки не будет происходить заражения и не разовьется болезнь. Делать это на людях неэтично: для китайского вируса вам пришлось бы провакцинировать группу здоровых людей, затем заразить их вирусом, а контрольную группу заразить без вакцинирования (из последних многие бы умерли). Поэтому опыты ставят на клеточных культурах или на животных, например крысах. Но даже это не гарантирует успех, ведь человек и модельное животное не одно и то же.
Это сложно и дорого. В основном ученые стремятся модифицировать уже существующие антибиотики. Но это нельзя делать до бесконечности, рано или поздно приходится искать новые (фармкомпании неохотно берутся за это, такой проект рискованный с точки зрения финансовых вложений: в среднем разработка одного успешного зарубежного лекарства занимает десять лет и обходится в 2,6 миллиарда долларов. — Прим ред.) .
Сама эта устойчивость у бактерий возникает в результате искусственного отбора — антибиотики широко применяются в сельском хозяйстве ( до 80 % всех антибиотиков вообще используют для лечения скота, причем примерно 97 % были куплены без рецепта , — прим. ред. ), в клиниках, а также обычными людьми в странах, где их отпускают без рецепта. Количество чувствительных к антибиотикам бактерий падает, количество устойчивых — увеличивается (например, самый первый антибиотик — пенициллин — сейчас уже не используется: у бактерий к нему развилась практически полная устойчивость. — Прим. ред.) .
С этой целью используют, например, бацитрацин, монензин и неомицин.
В лаборатории Северинова с этой целью используют стратегию биоинформатического геномного поиска: ищут в образцах генома бактерий участки, ответственные за синтез антибиотиков. Это очень медленный процесс, но в результате был найден принципиально новый антибиотик — клебсазолицин.
Принесла вам тут бактериологического оружия немножк в ленту.
Предвосхищая все вопросы. Не из моего учреждения, ничего конкретного об этом случае не знаю. pic.twitter.com/kYFv2ty5r4
Пока что имеющиеся антибиотики все еще работают в большинстве случаев. Но повсеместное распространение бактерий с устойчивостью приведет к катастрофическим с точки зрения современного человека последствиям, потому что мы вернемся в другую благословенную доантибиотиковую эру — с крайне высокой детской смертностью, смертностью от внутрибольничных инфекций, простых ран и тому подобного.
Правительства развитых стран должны обеспечивать проведение исследований в области наук о жизни на передовом уровне. Дело не только в финансировании, но и в создании условий для продуктивной работы ученых, в инфраструктуре, быстром обмене данными — то есть в том, без чего невозможна передовая наука. Сейчас оборудование и реагенты, которые нужны для быстрого определения новых возбудителей, создают и производят лишь в США, Великобритании и с недавнего времени в Китае. Понятно, что другие страны, которые полностью зависят от иностранных приборов и технологий, не смогут с ними конкурировать.
Все как всегда: соблюдайте правила гигиены, избегайте поездок в экзотические места, ведите размеренный и материально благополучный образ жизни — нужно иметь доступ к квалифицированным врачам. И постарайтесь ограничить использование антибиотиков.
Читайте также:


